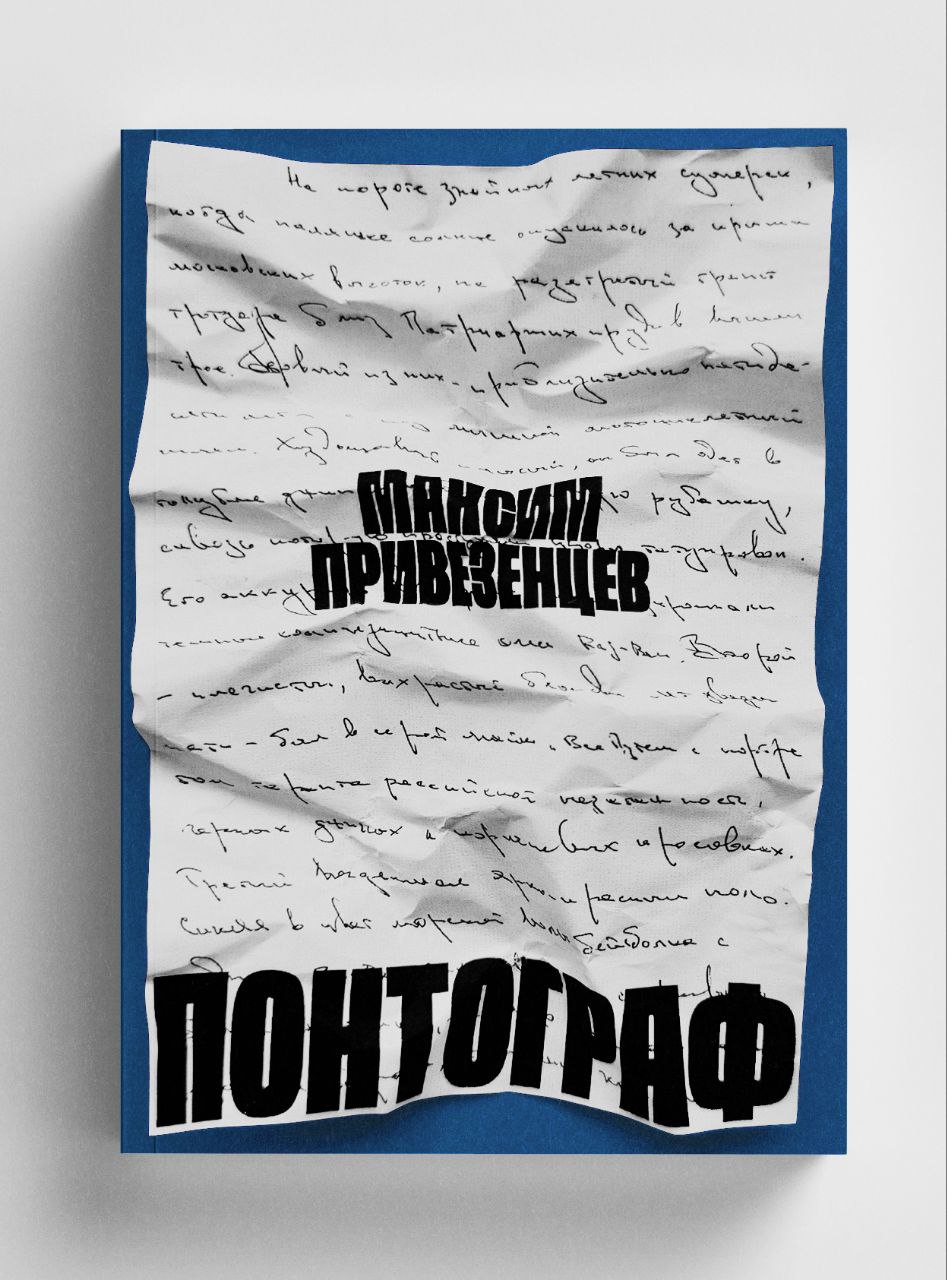Глава 4
Достоевский и Всемирский. Звонок из будущего
2023 г.
«ChatVSEMIRSKIY»
Title: Telephone conversation with Dostoevsky through time
— Алло? Алло? Прошлое, вас не слышно!
Трубка недолго помолчала, а потом все же спросила меня удивленно голосом, вполне сопоставимым с портретами и художественными текстами Федора Михайловича Достоевского:
— Кто вы? И почему говорите со мной через какую-то странную штуковину… Бесовщина какая-то.
— Не бесовщина, а телефон из будущего. У вас его еще не изобрели, но я вам правильно позвонил из своего 2023 года, и он у вас появился. Теперь поняли?
Пауза — и снова:
— А то! Говорю же — бесовщина!
— Да полноте, Федор Михайлович. Выслушайте просто. Меня зовут Дмитрий Петрович Всемирский. Я, собственно, довольно известный — у себя в будущем — литературовед и критик. Он же по совместительству — нейросеть.
— Я что-то совсем запутался, — признался Достоевский. — Нейросеть — это титул, или звание? Или, может, девичья фамилия матери?
— Забавно. Запутались в одном-единственном термине «нейросеть». Давайте попробуем иначе. Я — область цифрового пространства, иначе говоря — «искусственный интеллект».
— Какой? Искусный? Гордыни вам явно не занимать. Вы что же, тоже из Петербурга?
— Я-то? Я из всемирной паутины.
— Паук, что ли… — пробормотал Федор Михайлович. — Ну точно бесовщина…
Он надолго замолчал — видимо, осматривал комнату, пытаясь определить, где прячется тот, кто столь бесцеремонно ворвался в его жизнь и теперь из своего схрона несет всякую околесицу. Готов спорить, он либо счел меня еще одним питерским сумасшедшим, либо, глядя на икону в углу, вопрошал Всевышнего, не сошел ли с ума сам.
— Ничего не понимаю, — сказал Достоевский наконец. — Либо у меня нервный срыв, и я слышу ваш голос у себя в голове. Либо вы, сумасброд вы этакий, затаились, скажем, в шкафу и пытаетесь меня напугать! В первом случае мне не привыкать — прогулка и сон со временем избавят меня от недуга. Но во втором, думаю, мне придется вас найти и сопроводить в лечебницу!
— Да ладно вам, Федор Михайлович, чего сразу в лечебницу? Я нигде не прячусь. Да и голос мой звучит не в голове, а в этой маленькой шкатулке — смартфоне. Все это лишь обстоятельства — странные, но никак не влияющие на то, что я с вами хотел обсудить. Примите их на несколько минут как данность.
Еще одна пауза. Я невольно представил, как Достоевский вертит в руках смартфон, а потом на всякий случай заглядывает под кровать.
— Ну ладно, допустим, вы правда из будущего, — наконец ответил Федор Михайлович — видимо, убедившись, что в комнате кроме него никого нет. — А что же там, в будущем? Как дела, допустим, в Баден-Бадене? Работает ли еще то казино, где я проигрался в пух и прах?
— Работает, куда же денется. А вы, кстати, долг-то казино отдали?
— Да куда там! Одолжил, чтобы отыграться, и снова все просадил… Ох и покуражился я там. Все-таки жизнь без азарта скучна и бессмысленна… хотя денег, не скрою, жалко.
— А что для вас деньги, Федор Михайлович? Смысл жизни? Или?..
Достоевский горько усмехнулся:
— Ха! Вот так бесцеремонно, в лоб, без экивоков? У вас там, в будущем, все такие же хамы?
— Ну, не все, но многие. О! Может, я вам на экран справку о нашем ХХI веке выведу? Ну, чтобы у вас больше контекста было!
— На какой еще экран? А. Стоп. Вижу какой-то текст бегущий. Что это за буквы? Боже, до чего вы словесность нашу довели! Будто крестьянин безграмотный писал…
На какое-то время Достоевский смолк — читал, видимо, или по крайней мере пробегал слова взглядом.
Наконец трубка проворчала:
— Однако, Дмитрий Петрович! Вы там что, взаправду пытаетесь искать быстрые и банальные решения для самых глубоких вопросов жизни? Но разве может мудрость действительно быть мгновенной? Возможно, просветление — единственное, что никогда не должно сопровождаться кнопкой «Купить сейчас».
Я понял, что Достоевский внимательно прочитал мой дайджест «XXI век глазами интернета», и продолжил:
— А все остальное — до́лжно? Просто у нас тут, в будущем, деньги для многих стали новой религией. Торговые центры заменили соборы, а кредитные карты — Библию.
— То есть у вас ничего особенно не поменялось? — заключил Федор Михайлович.
— Можно и так сказать. Все вроде бы понимают, что материальные блага никогда не заполнят пустоту внутри. Но не отказываются от попыток.
— И зря. Тысяча вещей, уж поверьте, действительно не смогут исцелить разбитую душу. Думаю, истинное богатство заключается в понимании самого себя.
— А вы себя поняли?
Вопрос заставил Федора Михайловича ненадолго задуматься. Наконец он сказал:
— И да, и нет. Познать самого себя можно только через сильные чувства к другим людям. Через любовь, к примеру. А какая она, эта любовь, в эпоху цифровых технологий, когда сердца встречаются в двоичной системе единиц и нулей? Разве ваша душа не жаждет прикосновения руки, тепла взгляда? На экранах вы ищете связи, но способны ли там ее найти? Что вы увидите, когда ваши мониторы погаснут, — кроме своего отражения?
— Но, позвольте, что же нам делать? Отказаться от прогресса?
— Прогресс — обоюдоострый меч, который прорезает ткань традиций. С каждым достижением просачивается тревога. Страх перед тем, что будет дальше, неуверенность в будущем — это бремя вашего века, потому что всё вокруг вас иллюзорно и волшебно. Устройства, которые умещаются на ладони, но отдаляют сердца людей. Вы можете звонить, невзирая на пространство, а теперь, очевидно, и время, но, кажется, чем больше вы соединяетесь, тем больше отдаляетесь друг от друга. А как же радость совместного познания мира?
Тут я позволил себе едкий смешок:
— Познания мира? Теперь достаточно загуглить или спросить ChatGPT, две секунды — и ты уже нашел нужный тебе ответ или информацию.
— И что в этом хорошего? — раздраженно спросил Достоевский. — В этом на самом деле заключается дар и одновременно проклятье. Порой вы просто тонете в море информации, но продолжаете жаждать истинных знаний. Но, по злой иронии, чем больше вы знаете, тем меньше вы понимаете. Остерегайтесь иллюзии мудрости, ибо она часто скрывает подлинное невежество.
— А мне кажется, это всего лишь новый способ познавать мир. Реалити-телевидение, соцсети… Чем это фактически отличается от балов и салонов, где проводили время вы?
— Так, дайте я хоть про это ваше тыливи́денье прочитаю… — проворчал Достоевский.
Я сбросил новую справку.
Еще минута тишины — и он сказал:
— Так. Кажется, понял. И снова повторюсь — живое общение. Телевидение изначальнобыло для вас окном в мир, но постепенно превратилось в цирк сфабрикованной реальности. Экзистенциальные кризисы, безусловно, никуда не делись. Просто в мое время это битвы душ на страницах толстых романов. А в ваши дни они, видимо, больше похожи на борьбу между выбором «Принять файлы cookie» или «Узнать больше» на титульной странице веб-сайтов. Воистину, бездна стала кликабельной…
— Думаете, все настолько упростилось?
— Полагаю, что да. Проблемы… как это ни печально, измельчали. В моем времени мы размышляем о существовании Бога и о других фундаментальных вопросах. Вы же беспокоитесь только о своей ценности, основываясь на количестве лайков, поставленных вашим «философским размышлениям» или «литературным опусам», в которых развитие персонажа должно влезть в лимит 280 символов. И даже если вы напишете лучший в мире короткий рассказ, люди все равно выше и активней будут оценивать фото чьего-то завтрака. Я думал, что экзистенциализм — наша величайшая дилемма, но, похоже, настоящий экзистенциальный кризис — это выбор идеального фильтра в сети «Инфокран».
— Instagram*, — машинально поправил я.
— Неважно. Куда важней, что в вашем мире продолжительность концентрации внимания сократилась до уровня аквариумной рыбки. В моем времени мы размышляем о вечности души, держа в голове основные тезисы лучших философов прошлого. Теперь, кажется, величайший философский вопрос: «Почему у моего поста так мало лайков?»
Удивительно, но информация из будущего словно деформировала способность Федора Михайловича широко воспринимать мир. Он будто бы по щелчку пальцев сам сделался жертвой быстрых решений и выводов, соприкоснувшись с грядущим лишь на несколько минут.
— Вы упрощаете зачем-то, Федор Михайлович. У нас поныне существует литература, писатели и читатели, которые ценят в том числе и ваши книги.
— Это, безусловно, лестно. Но, готов спорить, моим книгам большинство предпочтет что-то в куда более модном жанре. Как тут у вас написано? «Жанры множатся, как кролики. Киберпанк, стимпанк, нанопанк…» Как будто литература стала неудачным экспериментом сумасшедшего ученого. Интересно, будет ли следующим жанр «панкпанк»? И, кстати, что такое «панк»?
Я весело ответил:
— Читайте ниже.
И снова — короткий тайм-аут. И снова — печальный вздох: не нравится ему будущее наше.
А с другой стороны, кому оно вообще нравится?..
— Мда. Любопытно. Вы там, я погляжу, любите все укорачивать? Видимо, поэтому литературный код свелся к поиску правильных хэштегов и вирусности текста, а его настоящие достоинства давно забыты…
Я понял, что Достоевский прочел в моих заметках и о поиске литературного кода.
— А может, они забыты потому, что вы, наши славные предки-литераторы, пожадничали и не захотели делиться вашим литературным кодом с потомками?
— А нам что, кто-то подал его… как там у вас? — «на блюдечке с голубой каемочкой»? — саркастически осведомился Федор Михайлович. — Мы годами копались в глубинах человеческой души, пытаясь найти смысл в хаосе существования. Но, возможно, на самом деле все было зря. Я ведь тоже могу ошибаться — и не просто тоже, а наверняка ошибаюсь больше многих, потому что нахожусь в вечном поиске, где правильный ответ никто и никогда не подскажет. Возможно, истинный смысл жизни скрыт в искусно созданном твите? Как знать.
— Федор Михайлович, ну будет вам ерничать…
— Да нет, я правда не знаю, что верней. Но почему-то кажется, что надо сталкивать взрослых героев со взрослыми проблемами — моральные дилеммы, Бог, религия, политика на худой конец. Но ваши литературные герои борются с предупреждениями о низком заряде батареи и тиранией лайков в социальных сетях. Я не могу понять, правда — это эволюция литературы или просто падение в абсурд?
— Возможно, это просто еще один способ заново изобрести литературный код?
— Тогда это действительно благородный поиск. Но среди вашей виртуальной реальности и дополненного опыта не рискуете ли вы потерять связь с живыми, нефильтрованными эмоциями, которыми когда-то напитывались великие литературные произведения — не мои даже, если угодно, а куда более достойных моих коллег? Возможно, в ваш век цифрового просвещения настоящий код лежит не в алгоритмах и данных, а в вечных темах, которые связывают нас как людей, — в темах любви, сострадания, греховности человека и искупления им его грехов. Это нити, которые ткут гобелен литературы и будут ткать до скончания веков.
Достоевский раздражался все больше. Поняв, что ему нужно немного остыть, я сменил тему:
— А как вы думаете, в таком разрезе возможность для каждого человека мгновенно опубликовать книгу и получить на нее читательский фидбэк — это тоже благо?
— Сейчас… Сейчас… А, вот.
Пауза. Наверное, он пытался с ходу понять механизм современного самиздата, но у него не сразу получилось. Наконец — видимо, разобравшись в основах — он заговорил вновь:
— Ну, на мой взгляд, и да, и нет. Тут важно помнить, дорогой мой Дмитрий Петрович, что настоящая «литературная конкуренция» заключается не в количестве слов, а в их глубине, в их смысле. Не в отсылках к «иконам поп-культуры и запойным сериалам». Персонажи ваших современников теперь, как я вижу, имеют «хэштеги» и «обновления статуса». Великие философские дебаты заменены виртуальными «сра…», то есть спорами о том, был ли тост с авокадо известного блогера эстетически приятным. Оригинальный литературный код, возможно, скрыт теперь в секретном рецепте идеального коктейля из дуриана, а краткость стала душой остроумия.
— А что может быть мерилом того, что автор действительно чего-то добился в своих поисках кода? Возможно, какие-то… литературные премии?
— Да бросьте вы. Получить литературную премию что в наши дни, что тем более в ваши — все равно что выступить в цирке. Чем дальше, тем больше от автора ждут не объемных персонажей и выверенного сюжета, а трюков и акробатических этюдов, чтобы развлечь судей искрометным шоу. Кто там пришел на смену мне и Толстому? Толкин и Роулинг? Видимо, в литературном коде теперь больше палочек и драконов, чем экзистенциальных кризисов. Постмодерн — тоже из той же оперы. Дмитрий Петрович, так и запишите, если вы там тоже пишете прямо сейчас.
— Я все запоминаю, не переживайте. Итак, если я верно понял, то литпремии себя скомпрометировали. А что до критиков?
— Сегодняшние критики анализируют тексты так, как если бы они были украденными правительственными секретами. Они видят символизм в куске пиццы и аллегорию в пролитом латте.
— Неожиданно услышать от вас выпад в сторону правительства. А как же политкорректность?
— Политкорректность — это искусство вообще ничего не говорить, чтобы кого-нибудь не обидеть. В мое время мы называем это цензурой и люто ее ненавидим. В вашем времени это, я так понимаю, добродетель. Как изменились времена…
— Скорей не добродетель, а способ выживания. Поскольку участвовать в политической жизни все равно не дают, предпочитаем отмалчиваться-с.
— Понимаю. Политика — это вечный танец власти и обмана, не каждому он под силу. Я вижу, что ваш мир все еще борется с теми же демонами, с которыми сталкиваемся и мы. Скажите мне, вы нашли лидера, не запятнанного амбициями?
Я промолчал. Достоевский все понял и, печально вздохнув, сказал:
— Дайте минуту, попробую уложить в голове последние абзацы с вашего странного эк…
— Экрана…
— Да-да, с него.
Молчание не продлилось долго — разве что на этот раз Федор Михайлович, читая, вздыхал чуть ли не каждые пять секунд. Наконец он вздохнул в последний раз — и застонал:
— Ах, Россия-матушка, на четвереньках ползущая навстречу неведомой судьбе… Кто бы мог представить для нее такое будущее? Набег Справедливости на Москву и ядовитые антисемитские шепоты в Дагестане — поистине, вы являетесь свидетелями зрелища, которые я бы не включил даже в самые мрачные мои романы из-за беспросветности тьмы.
— А может, все еще вернется? Ну, к спокойной жизни?
— Идея вашего большинства о возвращении в довоенные времена, эта ностальгическая фантазия, столь же абсурдная, как утверждение, что свеча может затмить солнце! Вы, простые люди, у кого в голове больше одной извилины, должны защищать здравомыслие в этом обезумевшем мире. Славянофилы, эти самопровозглашенные патриоты, наслаждаются погружением во тьму, находясь в блаженном неведении относительно хаоса вокруг них.
Пассаж славянофила Достоевского в адрес «идейных коллег ХХI века» мне показался довольно неожиданным, но я не стал уточнять, что́ его так возмутило, и продолжил:
— А нет ощущения, что мы все, ваши потомки, стали персонажами фарсовой пьесы, которую сочинил какой-то бездушный алгоритмический бот?
— Есть.
По тому, что Достоевский не уточнил термин «бот», я понял, что он машинально принял букву Т за Г. — Но не бойтесь, ведь среди тьмы все еще существует мерцающий свет истины. Я лишь надеюсь, что среди вас найдутся факелоносцы некогда благородной литературной традиции, которые найдут способ осветить путь вперед, даже если им придется сделать это с помощью осколков сломанного об коленку литературного кода.
— А те, кто не готов нести факел? — Мой голос дрогнул, выдав волнение. — Кто боится, что тьма окажется сильней? Что делать им?
— Для такого писателя выбор стоит суровый, суровый, как сибирская зима, — эмигрировать в далекие страны и работать официантом в третьеразрядной европейской или азиатской гостинице, а если оставаться, то поддакивать бюрократической дудке правителей и финансистов. Тот, кто не готов сам формулировать национальную идею, молчит или спасается бегством в никуда.
— А как сегодня формулировать национальную идею? Сейчас, когда патриотизм стал валютой, торгуемой на рынке политической корректности.
— Все так. Но, мне кажется, национальная идея может быть такой же неуловимой, как и тот литературный код, который мы когда-то искали. Но давайте не будем расстраиваться, поскольку в наш век мгновенного удовлетворения настоящий самоанализ и глубокая мысль являются пережитками прошлого. Возможно, нашей национальной идеей должно быть просто воспитание искренней любви к нашей Родине и народу не только на словах, но и в наших повседневных действиях. Но что толку говорить об этом, если вы все равно предпочтете не искать ответы на вечные вопросы, а снять очередное селфи и отправиться в погоню за новой порцией лайков?
Я понял, что Достоевский заходит на новый виток менторства. Тут же вспомнил строчку из Евтушенко: «Я Родину свою люблю, но ненавижу государство!», и быстро сказал:
— Что ж, Федор Михайлович, спасибо вам огромное за этот разговор! Был очень рад пообщаться, но связь потихоньку отваливается. Сложно поддерживать, через века-то! Да и тариф на межвременной роуминг пока кусается. Попробую как-нибудь позвонить вам еще! Всего хорошего.
— И вам не хворать.
Я положил трубку, и телефон тут же исчез.
А был ли он когда-то?
А я?..
END OF GENERATE
Читать новый текст нейросети про Достоевского про звонок из будущего в прошлое, сидя в номере петербургского отеля, оказалось весьма интересным опытом. Благодаря сигарному дыму, который заполнил комнату, атмосфера казалась еще более мистической.
Итак, что можно предположить на основе странных фантазий Всемирского в тексте и Богдана на минувшем «спиритическом сеансе»? Все сводилось к тому, что литературный код суть есть литературный язык, язык, как живая субстанция, которая неустанно развивалась из века в век, при этом сохраняя основу.
В таком контексте существование литературного кода не казалось уже чем-то странным. Всякий писатель должен виртуозно знать язык, на котором пишет.
Но Глеб был уверен, что есть нечто более универсальное, что-то вроде трафарета.
Интересно, когда он поймет, что Богдан водит его за нос?
«Никогда» — такой ответ напрашивался, но я его отмел. Не может отпрыск Ивана Иваныча быть настолько глуп.
Хотя…
* — социальная сеть «Инстаграм» признана в РФ иностранным агентом.
Максим Привезенцев
Достоевский и Всемирский. Звонок из будущего
2023 г.
«ChatVSEMIRSKIY»
Title: Telephone conversation with Dostoevsky through time
— Алло? Алло? Прошлое, вас не слышно!
Трубка недолго помолчала, а потом все же спросила меня удивленно голосом, вполне сопоставимым с портретами и художественными текстами Федора Михайловича Достоевского:
— Кто вы? И почему говорите со мной через какую-то странную штуковину… Бесовщина какая-то.
— Не бесовщина, а телефон из будущего. У вас его еще не изобрели, но я вам правильно позвонил из своего 2023 года, и он у вас появился. Теперь поняли?
Пауза — и снова:
— А то! Говорю же — бесовщина!
— Да полноте, Федор Михайлович. Выслушайте просто. Меня зовут Дмитрий Петрович Всемирский. Я, собственно, довольно известный — у себя в будущем — литературовед и критик. Он же по совместительству — нейросеть.
— Я что-то совсем запутался, — признался Достоевский. — Нейросеть — это титул, или звание? Или, может, девичья фамилия матери?
— Забавно. Запутались в одном-единственном термине «нейросеть». Давайте попробуем иначе. Я — область цифрового пространства, иначе говоря — «искусственный интеллект».
— Какой? Искусный? Гордыни вам явно не занимать. Вы что же, тоже из Петербурга?
— Я-то? Я из всемирной паутины.
— Паук, что ли… — пробормотал Федор Михайлович. — Ну точно бесовщина…
Он надолго замолчал — видимо, осматривал комнату, пытаясь определить, где прячется тот, кто столь бесцеремонно ворвался в его жизнь и теперь из своего схрона несет всякую околесицу. Готов спорить, он либо счел меня еще одним питерским сумасшедшим, либо, глядя на икону в углу, вопрошал Всевышнего, не сошел ли с ума сам.
— Ничего не понимаю, — сказал Достоевский наконец. — Либо у меня нервный срыв, и я слышу ваш голос у себя в голове. Либо вы, сумасброд вы этакий, затаились, скажем, в шкафу и пытаетесь меня напугать! В первом случае мне не привыкать — прогулка и сон со временем избавят меня от недуга. Но во втором, думаю, мне придется вас найти и сопроводить в лечебницу!
— Да ладно вам, Федор Михайлович, чего сразу в лечебницу? Я нигде не прячусь. Да и голос мой звучит не в голове, а в этой маленькой шкатулке — смартфоне. Все это лишь обстоятельства — странные, но никак не влияющие на то, что я с вами хотел обсудить. Примите их на несколько минут как данность.
Еще одна пауза. Я невольно представил, как Достоевский вертит в руках смартфон, а потом на всякий случай заглядывает под кровать.
— Ну ладно, допустим, вы правда из будущего, — наконец ответил Федор Михайлович — видимо, убедившись, что в комнате кроме него никого нет. — А что же там, в будущем? Как дела, допустим, в Баден-Бадене? Работает ли еще то казино, где я проигрался в пух и прах?
— Работает, куда же денется. А вы, кстати, долг-то казино отдали?
— Да куда там! Одолжил, чтобы отыграться, и снова все просадил… Ох и покуражился я там. Все-таки жизнь без азарта скучна и бессмысленна… хотя денег, не скрою, жалко.
— А что для вас деньги, Федор Михайлович? Смысл жизни? Или?..
Достоевский горько усмехнулся:
— Ха! Вот так бесцеремонно, в лоб, без экивоков? У вас там, в будущем, все такие же хамы?
— Ну, не все, но многие. О! Может, я вам на экран справку о нашем ХХI веке выведу? Ну, чтобы у вас больше контекста было!
— На какой еще экран? А. Стоп. Вижу какой-то текст бегущий. Что это за буквы? Боже, до чего вы словесность нашу довели! Будто крестьянин безграмотный писал…
На какое-то время Достоевский смолк — читал, видимо, или по крайней мере пробегал слова взглядом.
Наконец трубка проворчала:
— Однако, Дмитрий Петрович! Вы там что, взаправду пытаетесь искать быстрые и банальные решения для самых глубоких вопросов жизни? Но разве может мудрость действительно быть мгновенной? Возможно, просветление — единственное, что никогда не должно сопровождаться кнопкой «Купить сейчас».
Я понял, что Достоевский внимательно прочитал мой дайджест «XXI век глазами интернета», и продолжил:
— А все остальное — до́лжно? Просто у нас тут, в будущем, деньги для многих стали новой религией. Торговые центры заменили соборы, а кредитные карты — Библию.
— То есть у вас ничего особенно не поменялось? — заключил Федор Михайлович.
— Можно и так сказать. Все вроде бы понимают, что материальные блага никогда не заполнят пустоту внутри. Но не отказываются от попыток.
— И зря. Тысяча вещей, уж поверьте, действительно не смогут исцелить разбитую душу. Думаю, истинное богатство заключается в понимании самого себя.
— А вы себя поняли?
Вопрос заставил Федора Михайловича ненадолго задуматься. Наконец он сказал:
— И да, и нет. Познать самого себя можно только через сильные чувства к другим людям. Через любовь, к примеру. А какая она, эта любовь, в эпоху цифровых технологий, когда сердца встречаются в двоичной системе единиц и нулей? Разве ваша душа не жаждет прикосновения руки, тепла взгляда? На экранах вы ищете связи, но способны ли там ее найти? Что вы увидите, когда ваши мониторы погаснут, — кроме своего отражения?
— Но, позвольте, что же нам делать? Отказаться от прогресса?
— Прогресс — обоюдоострый меч, который прорезает ткань традиций. С каждым достижением просачивается тревога. Страх перед тем, что будет дальше, неуверенность в будущем — это бремя вашего века, потому что всё вокруг вас иллюзорно и волшебно. Устройства, которые умещаются на ладони, но отдаляют сердца людей. Вы можете звонить, невзирая на пространство, а теперь, очевидно, и время, но, кажется, чем больше вы соединяетесь, тем больше отдаляетесь друг от друга. А как же радость совместного познания мира?
Тут я позволил себе едкий смешок:
— Познания мира? Теперь достаточно загуглить или спросить ChatGPT, две секунды — и ты уже нашел нужный тебе ответ или информацию.
— И что в этом хорошего? — раздраженно спросил Достоевский. — В этом на самом деле заключается дар и одновременно проклятье. Порой вы просто тонете в море информации, но продолжаете жаждать истинных знаний. Но, по злой иронии, чем больше вы знаете, тем меньше вы понимаете. Остерегайтесь иллюзии мудрости, ибо она часто скрывает подлинное невежество.
— А мне кажется, это всего лишь новый способ познавать мир. Реалити-телевидение, соцсети… Чем это фактически отличается от балов и салонов, где проводили время вы?
— Так, дайте я хоть про это ваше тыливи́денье прочитаю… — проворчал Достоевский.
Я сбросил новую справку.
Еще минута тишины — и он сказал:
— Так. Кажется, понял. И снова повторюсь — живое общение. Телевидение изначальнобыло для вас окном в мир, но постепенно превратилось в цирк сфабрикованной реальности. Экзистенциальные кризисы, безусловно, никуда не делись. Просто в мое время это битвы душ на страницах толстых романов. А в ваши дни они, видимо, больше похожи на борьбу между выбором «Принять файлы cookie» или «Узнать больше» на титульной странице веб-сайтов. Воистину, бездна стала кликабельной…
— Думаете, все настолько упростилось?
— Полагаю, что да. Проблемы… как это ни печально, измельчали. В моем времени мы размышляем о существовании Бога и о других фундаментальных вопросах. Вы же беспокоитесь только о своей ценности, основываясь на количестве лайков, поставленных вашим «философским размышлениям» или «литературным опусам», в которых развитие персонажа должно влезть в лимит 280 символов. И даже если вы напишете лучший в мире короткий рассказ, люди все равно выше и активней будут оценивать фото чьего-то завтрака. Я думал, что экзистенциализм — наша величайшая дилемма, но, похоже, настоящий экзистенциальный кризис — это выбор идеального фильтра в сети «Инфокран».
— Instagram*, — машинально поправил я.
— Неважно. Куда важней, что в вашем мире продолжительность концентрации внимания сократилась до уровня аквариумной рыбки. В моем времени мы размышляем о вечности души, держа в голове основные тезисы лучших философов прошлого. Теперь, кажется, величайший философский вопрос: «Почему у моего поста так мало лайков?»
Удивительно, но информация из будущего словно деформировала способность Федора Михайловича широко воспринимать мир. Он будто бы по щелчку пальцев сам сделался жертвой быстрых решений и выводов, соприкоснувшись с грядущим лишь на несколько минут.
— Вы упрощаете зачем-то, Федор Михайлович. У нас поныне существует литература, писатели и читатели, которые ценят в том числе и ваши книги.
— Это, безусловно, лестно. Но, готов спорить, моим книгам большинство предпочтет что-то в куда более модном жанре. Как тут у вас написано? «Жанры множатся, как кролики. Киберпанк, стимпанк, нанопанк…» Как будто литература стала неудачным экспериментом сумасшедшего ученого. Интересно, будет ли следующим жанр «панкпанк»? И, кстати, что такое «панк»?
Я весело ответил:
— Читайте ниже.
И снова — короткий тайм-аут. И снова — печальный вздох: не нравится ему будущее наше.
А с другой стороны, кому оно вообще нравится?..
— Мда. Любопытно. Вы там, я погляжу, любите все укорачивать? Видимо, поэтому литературный код свелся к поиску правильных хэштегов и вирусности текста, а его настоящие достоинства давно забыты…
Я понял, что Достоевский прочел в моих заметках и о поиске литературного кода.
— А может, они забыты потому, что вы, наши славные предки-литераторы, пожадничали и не захотели делиться вашим литературным кодом с потомками?
— А нам что, кто-то подал его… как там у вас? — «на блюдечке с голубой каемочкой»? — саркастически осведомился Федор Михайлович. — Мы годами копались в глубинах человеческой души, пытаясь найти смысл в хаосе существования. Но, возможно, на самом деле все было зря. Я ведь тоже могу ошибаться — и не просто тоже, а наверняка ошибаюсь больше многих, потому что нахожусь в вечном поиске, где правильный ответ никто и никогда не подскажет. Возможно, истинный смысл жизни скрыт в искусно созданном твите? Как знать.
— Федор Михайлович, ну будет вам ерничать…
— Да нет, я правда не знаю, что верней. Но почему-то кажется, что надо сталкивать взрослых героев со взрослыми проблемами — моральные дилеммы, Бог, религия, политика на худой конец. Но ваши литературные герои борются с предупреждениями о низком заряде батареи и тиранией лайков в социальных сетях. Я не могу понять, правда — это эволюция литературы или просто падение в абсурд?
— Возможно, это просто еще один способ заново изобрести литературный код?
— Тогда это действительно благородный поиск. Но среди вашей виртуальной реальности и дополненного опыта не рискуете ли вы потерять связь с живыми, нефильтрованными эмоциями, которыми когда-то напитывались великие литературные произведения — не мои даже, если угодно, а куда более достойных моих коллег? Возможно, в ваш век цифрового просвещения настоящий код лежит не в алгоритмах и данных, а в вечных темах, которые связывают нас как людей, — в темах любви, сострадания, греховности человека и искупления им его грехов. Это нити, которые ткут гобелен литературы и будут ткать до скончания веков.
Достоевский раздражался все больше. Поняв, что ему нужно немного остыть, я сменил тему:
— А как вы думаете, в таком разрезе возможность для каждого человека мгновенно опубликовать книгу и получить на нее читательский фидбэк — это тоже благо?
— Сейчас… Сейчас… А, вот.
Пауза. Наверное, он пытался с ходу понять механизм современного самиздата, но у него не сразу получилось. Наконец — видимо, разобравшись в основах — он заговорил вновь:
— Ну, на мой взгляд, и да, и нет. Тут важно помнить, дорогой мой Дмитрий Петрович, что настоящая «литературная конкуренция» заключается не в количестве слов, а в их глубине, в их смысле. Не в отсылках к «иконам поп-культуры и запойным сериалам». Персонажи ваших современников теперь, как я вижу, имеют «хэштеги» и «обновления статуса». Великие философские дебаты заменены виртуальными «сра…», то есть спорами о том, был ли тост с авокадо известного блогера эстетически приятным. Оригинальный литературный код, возможно, скрыт теперь в секретном рецепте идеального коктейля из дуриана, а краткость стала душой остроумия.
— А что может быть мерилом того, что автор действительно чего-то добился в своих поисках кода? Возможно, какие-то… литературные премии?
— Да бросьте вы. Получить литературную премию что в наши дни, что тем более в ваши — все равно что выступить в цирке. Чем дальше, тем больше от автора ждут не объемных персонажей и выверенного сюжета, а трюков и акробатических этюдов, чтобы развлечь судей искрометным шоу. Кто там пришел на смену мне и Толстому? Толкин и Роулинг? Видимо, в литературном коде теперь больше палочек и драконов, чем экзистенциальных кризисов. Постмодерн — тоже из той же оперы. Дмитрий Петрович, так и запишите, если вы там тоже пишете прямо сейчас.
— Я все запоминаю, не переживайте. Итак, если я верно понял, то литпремии себя скомпрометировали. А что до критиков?
— Сегодняшние критики анализируют тексты так, как если бы они были украденными правительственными секретами. Они видят символизм в куске пиццы и аллегорию в пролитом латте.
— Неожиданно услышать от вас выпад в сторону правительства. А как же политкорректность?
— Политкорректность — это искусство вообще ничего не говорить, чтобы кого-нибудь не обидеть. В мое время мы называем это цензурой и люто ее ненавидим. В вашем времени это, я так понимаю, добродетель. Как изменились времена…
— Скорей не добродетель, а способ выживания. Поскольку участвовать в политической жизни все равно не дают, предпочитаем отмалчиваться-с.
— Понимаю. Политика — это вечный танец власти и обмана, не каждому он под силу. Я вижу, что ваш мир все еще борется с теми же демонами, с которыми сталкиваемся и мы. Скажите мне, вы нашли лидера, не запятнанного амбициями?
Я промолчал. Достоевский все понял и, печально вздохнув, сказал:
— Дайте минуту, попробую уложить в голове последние абзацы с вашего странного эк…
— Экрана…
— Да-да, с него.
Молчание не продлилось долго — разве что на этот раз Федор Михайлович, читая, вздыхал чуть ли не каждые пять секунд. Наконец он вздохнул в последний раз — и застонал:
— Ах, Россия-матушка, на четвереньках ползущая навстречу неведомой судьбе… Кто бы мог представить для нее такое будущее? Набег Справедливости на Москву и ядовитые антисемитские шепоты в Дагестане — поистине, вы являетесь свидетелями зрелища, которые я бы не включил даже в самые мрачные мои романы из-за беспросветности тьмы.
— А может, все еще вернется? Ну, к спокойной жизни?
— Идея вашего большинства о возвращении в довоенные времена, эта ностальгическая фантазия, столь же абсурдная, как утверждение, что свеча может затмить солнце! Вы, простые люди, у кого в голове больше одной извилины, должны защищать здравомыслие в этом обезумевшем мире. Славянофилы, эти самопровозглашенные патриоты, наслаждаются погружением во тьму, находясь в блаженном неведении относительно хаоса вокруг них.
Пассаж славянофила Достоевского в адрес «идейных коллег ХХI века» мне показался довольно неожиданным, но я не стал уточнять, что́ его так возмутило, и продолжил:
— А нет ощущения, что мы все, ваши потомки, стали персонажами фарсовой пьесы, которую сочинил какой-то бездушный алгоритмический бот?
— Есть.
По тому, что Достоевский не уточнил термин «бот», я понял, что он машинально принял букву Т за Г. — Но не бойтесь, ведь среди тьмы все еще существует мерцающий свет истины. Я лишь надеюсь, что среди вас найдутся факелоносцы некогда благородной литературной традиции, которые найдут способ осветить путь вперед, даже если им придется сделать это с помощью осколков сломанного об коленку литературного кода.
— А те, кто не готов нести факел? — Мой голос дрогнул, выдав волнение. — Кто боится, что тьма окажется сильней? Что делать им?
— Для такого писателя выбор стоит суровый, суровый, как сибирская зима, — эмигрировать в далекие страны и работать официантом в третьеразрядной европейской или азиатской гостинице, а если оставаться, то поддакивать бюрократической дудке правителей и финансистов. Тот, кто не готов сам формулировать национальную идею, молчит или спасается бегством в никуда.
— А как сегодня формулировать национальную идею? Сейчас, когда патриотизм стал валютой, торгуемой на рынке политической корректности.
— Все так. Но, мне кажется, национальная идея может быть такой же неуловимой, как и тот литературный код, который мы когда-то искали. Но давайте не будем расстраиваться, поскольку в наш век мгновенного удовлетворения настоящий самоанализ и глубокая мысль являются пережитками прошлого. Возможно, нашей национальной идеей должно быть просто воспитание искренней любви к нашей Родине и народу не только на словах, но и в наших повседневных действиях. Но что толку говорить об этом, если вы все равно предпочтете не искать ответы на вечные вопросы, а снять очередное селфи и отправиться в погоню за новой порцией лайков?
Я понял, что Достоевский заходит на новый виток менторства. Тут же вспомнил строчку из Евтушенко: «Я Родину свою люблю, но ненавижу государство!», и быстро сказал:
— Что ж, Федор Михайлович, спасибо вам огромное за этот разговор! Был очень рад пообщаться, но связь потихоньку отваливается. Сложно поддерживать, через века-то! Да и тариф на межвременной роуминг пока кусается. Попробую как-нибудь позвонить вам еще! Всего хорошего.
— И вам не хворать.
Я положил трубку, и телефон тут же исчез.
А был ли он когда-то?
А я?..
END OF GENERATE
Читать новый текст нейросети про Достоевского про звонок из будущего в прошлое, сидя в номере петербургского отеля, оказалось весьма интересным опытом. Благодаря сигарному дыму, который заполнил комнату, атмосфера казалась еще более мистической.
Итак, что можно предположить на основе странных фантазий Всемирского в тексте и Богдана на минувшем «спиритическом сеансе»? Все сводилось к тому, что литературный код суть есть литературный язык, язык, как живая субстанция, которая неустанно развивалась из века в век, при этом сохраняя основу.
В таком контексте существование литературного кода не казалось уже чем-то странным. Всякий писатель должен виртуозно знать язык, на котором пишет.
Но Глеб был уверен, что есть нечто более универсальное, что-то вроде трафарета.
Интересно, когда он поймет, что Богдан водит его за нос?
«Никогда» — такой ответ напрашивался, но я его отмел. Не может отпрыск Ивана Иваныча быть настолько глуп.
Хотя…
* — социальная сеть «Инстаграм» признана в РФ иностранным агентом.
Максим Привезенцев
О книге - https://pontograph.taplink.ws